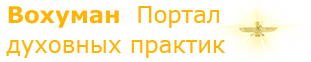Если судить по гимнам «Ригведы», культ мертвых не занимал особенно значительного места в религии древних ариев. В X книге содержится несколько похоронных гимнов, отражающих воззрения той эпохи на загробную жизнь. Некоторые из этих гимнов весьма выразительны в художественном отношении.
Ступай к матери своей, земле,— гласят заключительные строфы одного из них,— к ней, обширной, раздольной, благодатной. Для праведного — нежная, как дева, да охранит она тебя от гибели? Раскройся, земля, не причинив ему зла, прими его приветливо и мирно; укрой его земля, как мать сына укрывает одеялом! Стань прочной над ним, земля, и тысяча опор да поместится сверху; да будет этот дом богат дарами и да будет ему надежным кровом во все дни! Я утверждаю землю вокруг тебя; да не поврежу я тебе, укладывая это надгробие. Пусть опору его поддерживают предки, и да уготовит тебе здесь обитель Яма! Придет день, и меня положат в землю, как вкладывают перо в стрелу. Будущую речь я сдерживаю, как уздою коня (Х.18.10-14).
В этом гимне, как явствует из его содержания, речь идет о погребении; однако, поскольку в эпоху «Ригведы» в обычае была кремация мертвых, здесь, по-видимому, подразумевается погребение урны с прахом покойного. В другом похоронном гимне говорится о погребальном костре, на который возлагают тело умершего. Этот гимн обращен к богу огня: «Не сжигай, не испепеляй его, о Агни, не уничтожай его кожу и тело. Когда ты его приготовишь, о Джатаведаc, пошли его к предкам» (Х.16.1).
В похоронных гимнах говорится, что смерть разрушает тело, но не душу. Душа отделяется от тела после смерти, а также при бессознательном состоянии. Учение о новом рождении после смерти (о так называемом переселении душ), столь характерное для индийского мировоззрения в последующие эпохи, в «Ригведе» еще не прослеживается. Только в одном месте говорится о душе, удалившейся к водам или к растениям:
В солнце уйдет твое зрение, в ветер — твое дыхание, ступай на небо, ступай в землю как должно, или удались к водам, если тебе там благо, члены тела да пребудут в растениях... О Джатаведае, яви милостивый образ и отнеси его бережно в мир праведных... Вернувшийся в жизнь, да обретет он потомство, да воплотится он, о Джатаведаc! (Х.16.3-5).
Согласно представлениям ведийских ариев, дух умершего уходит в царство вечного света по тропе, проложенной предками, которых он находит на высших небесах блаженствующими под эгидой Ямы, царя мертвых, и пирующими с богами. «Ступай, ступай по этим древним путям, где прошли до нас предки. Ты увидишь двоих блаженных властителей - Яму и бога Варуну»,— говорится в одном из похоронных гимнов «Ригведы» (Х.14.7) 96. Там дерево простирает ветви, в тени которых Яма пьет сому с богами, там сияет никогда не угасающий день, там вечно струятся воды, там, в. царстве бессмертия, исполняются все желания. Жизнь на небесах - блаженная жизнь материальных радостей, рожденная воображением древних ариев под влиянием реальных условий их земного существования.
Об аде, месте будущего наказания за грехи, в «Ригведе» не упоминается отчетливо. Только в одном месте говорится о подземной тьме, куда Индру призывают низвергнуть врага его почитателя (Х.152.4); иногда упоминается бездна куда низвергаются демоны и грешники. Вера в место загробной кары уже отчетливо выражена в «Атхарваведе»; до-видимому, эта вера еще была чужда древнейшему мировоззрению, но в дальнейшем она получает развитие в религиозной идеологии классового общества.
Путь предков в гимнах «Ригведы» отличается от пути богов. В Брахманах указывается, что боги и предки живут в разных обителях; и позднее «мир небес» (сваргалока) противопоставляется «миру предков» (питрилока).
Три гимна в «Ригведе» посвящено Яме. Это очень древний образ. Яме, сыну Вивасвата, соответствует в «Авесте» Йима, сын Вивахванта. Яма — «собиратель народов» (джананам сангамана), дающий приют (авасана) умершим. Смерть — путь Ямы. Но в «Ригведе» Яма еще не бог смерти в том значении, которое он приобретает позднее. Он - первый умерший на земле, первый, кто открыл путь в иной мир, и это дает ему право на господство в царстве мертвых. Путь, проложенный мертвыми, охраняют грозные стражи Ямы — два пса, сыновья божественной собаки Сарамы. Посланцами Ямы называют сову и голубя — эти птицы в древней Индии считались вестниками смерти.
Происхождение Ямы в «Ригведе» остается довольно неясным; и отец его Вивасват обрисован весьма туманно. Имя его означает «Блистающий», и позднее он определенно отождествляется с Солнцем (Сурьей). Но в «Ригведе» неоднократно подчеркивается, что Вивасват, как и сын его Яма, не принадлежит к сонму богов; позднее, в «Шатапатха-брахмане» (III.1), он отождествляется с восьмым из Адитьев - Мартандой, но и здесь утверждается, что он не равен своим братьям богам.
В «Ригведе» неясно указывается на связь Вивасвата с сомой (десять дочерей Вивасвата очищают сому). В «Авесте» Вивахвант — первый смертный, приготовивший хаому; Ведийский Вивасват—отец богов Ашвинов (мать их - дочь Тваштара), но он же — отец Ману, прародителя человечества, а также смертного Ямы и дочери Ями.
Имя «Яма» первоначально обозначает «Близнец». И в Авесте приводится миф о близнецах, брате и сестре Йиме и Йимак. Миф о близнецах, предках человечества, засвидетельствован у многих архаических народов. В «Ригведе» ои не излагается достаточно ясно; но большой интерес представляют отголоски мифа о Яме и Ями в знаменитом гимне-диалоге в X книге.
В.Г. Эрман ОЧЕРК ИСТОРИИ ВЕДИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ